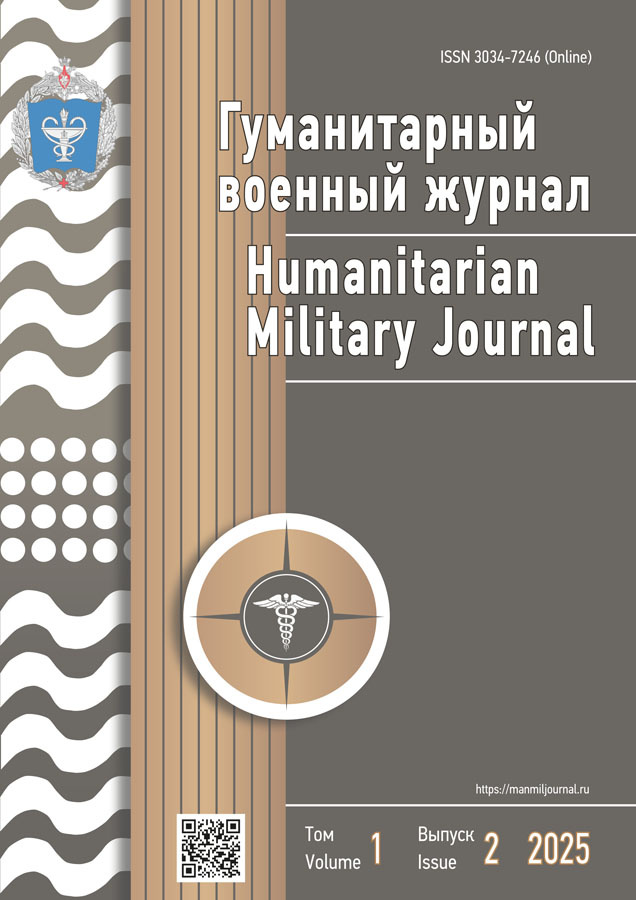Issues of Russian military medical education: a historical analysis
- Autores: Zhukov A.A.1, Kryuchkov O.A.1
-
Afiliações:
- Kirov Military Medical Academy
- Edição: Volume 1, Nº 2 (2025)
- Páginas: 101-108
- Seção: Historical article
- ##submission.dateSubmitted##: 23.12.2024
- ##submission.dateAccepted##: 24.03.2025
- ##submission.datePublished##: 30.06.2025
- URL: https://manmiljournal.ru/hmj/article/view/643311
- DOI: https://doi.org/10.17816/hmj643311
- EDN: https://elibrary.ru/HOXKBC
- ID: 643311
Citar
Texto integral
Resumo
The paper analyzes the evolution of issues faced by the Russian military medical education system during its establishment and development. Such issues arose from many reasons, but we can highlight the most important ones. First of all, the medical training management depends on the country’s leadership perspective on the system of training of medical personnel in general and on the place and role of military medicine in the Army and Navy structure. In this case, regardless of the social system, there has been imbalance, e.g. excessive militarization of education to the detriment of students (cadets) acquiring special knowledge and the discarding of all military medical disciplines from the curriculum. Some issues, including underfunding, protectionism, and other factors, are permanent and have been traced back to more than three centuries. Another threat is ill-conceived pedagogical experiments. As history is cyclical, awareness of the problems we faced in relation to medical training development in the past, along with methods of addressing them by our predecessors and their effects may be indispensable for making new decisions regarding the development of the Russian military medical education.
Texto integral
По историческим меркам отечественная система медицинского образования весьма молода. Если говорить именно как про систему, то ей чуть более трех столетий. Первое высшее учебное заведение в России — Славяно-греко-латинская академия — появилось только в конце XVII в. (в 1687 г., примерно на 500 лет позже европейских университетов). Специальное же военно-медицинское образование в классическом варианте до XVIII в. не существовало ни в Европе, ни в России.
С чего все начиналось? Если не брать в расчет частное ученичество у иностранных врачей, то отечественная система подготовки лекарей берет свое начало с создания в 1654 г. лекарской школы при Аптекарском приказе. Рассчитанная на 30 учеников и с нерегламентированным сроком обучения, вклад в обеспечение армии врачами она внесла незначительный, но уже на ее примере высветились первые проблемы военно-медицинского образования. К таковым можно отнести отсутствие отечественных педагогических кадров, языковой барьер с иностранными педагогами и низкий базовый образовательный уровень учеников. Такая тенденция сохранится на протяжении 200 лет.
Начало XVIII в. тесно связано с реформами Петра I. По его указу в 1707 г. при московском госпитале учреждается госпитальная школа на 50 учеников. Госпитальная школа при московском госпитале была своего рода пилотным проектом, который оказался удачным, и в короткое время при самых крупных госпиталях начинают создаваться аналогичные школы. К концу XVIII в. таковых в стране было шесть [1].
Особую проблему представлял набор кандидатов на обучение. Потенциальные ученики по-прежнему в подавляющем большинстве не владели иностранными языками, поэтому основную массу обучаемых составляли студенты 2–3 курса Славяно-греко-латинской академии и духовных училищ (к этому моменту они прекрасно знали латынь и один из иностранных языков), а также рожденные в России дети врачей-иностранцев. Отбор учеников в медицинские школы редко проходил на добровольной основе. Медицинская канцелярия рассылала требования в академию и духовные училища ежегодно представлять определенное количество учеников для обучения медицинским наукам. Вполне очевидно, какой контингент они присылали.
Примечательно, что пройдет два столетия, и президент Военно-медицинской академии В.А. Оппель про поступающих в нее скажет: «Некоторые кавказские гимназии выдавали аттестаты с правом на медаль лицам, которые только хотели поступить в Академию, все прошлое этих гимназистов не отвечало характеристике их золотой медали» [2].
В санкт-петербургских и кронштадтских госпитальных школах первое время обучались лишь дети иностранцев. Более того, ряд учеников не владели латинским языком, а зачастую и русским. И это при том, что при приеме в госпитальную школу обязательно проводился экзамен на знание латинского языка. Протекционизм — еще одна проблема.
Приведем еще один интересный факт, который относится уже к Военно-медицинской академии начала XX в. В 1917 г. конференцией академии обсуждался вопрос о том, чтобы «публиковать объявление, что прием по протекции осуществляться не будет». Ранее по конкурсу аттестатов принималось 150–160 человек, а по протекционным запискам до 240, что резко снижало успеваемость, и на второй курс из набранных 400 человек переходило только 90.
Учебно-материальная база первых госпитальных школ оставляла желать лучшего. В частности, в московском госпитале в первые годы его существования не было ни одного препарата для обучения остеологии. Учебная литература также отсутствовала. Но даже записать «лекционы» было не так-то просто — бумага стоила достаточно дорого и не всегда была доступна отнюдь не богатым студентам. Между студентами широко была распространена перепродажа текстов лекций. Если в таком тексте были ошибки, то они кочевали от курса к курсу.
Ежегодно госпитальные школы выпускали разное количество лекарей, но никогда эта цифра не соответствовала кадровому заказу. Например, московская госпитальная школа за период с 1712 по 1738 г. выпускала от 4 до 22 лекарей в год. При численности армии в 300 тыс. — это капля в море [3].
В «Регламенте о управлении Адмиралтейства и Верфи» (1722) впервые законодательно вводилась система лекарского ученичества при госпиталях, но каких-либо положений о порядке, задачах и подготовке лекарских учеников этот документ не содержал. Таким образом, высвечивается еще одна проблема — несовершенство законодательной базы.
В 1735 г. в «Генеральном регламенте о госпиталях» официально декларировалось, что госпитальные школы — это центры подготовки медицинских кадров в стране. При этом особо указывалось на необходимость обучения «природных россиян». Забегая вперед, отметим, что задача была выполнена, но без малого через 150 лет (русско-турецкая война 1877–1878 гг., когда 100% медицинского персонала составляли россияне).
Школа в административном плане подчинялась госпиталю и зачастую воспринималась начальниками госпиталей как обуза, отвлекающая врачебный персонал от выполнения прямых должностных обязанностей, поскольку преподавание возлагалось на штатных лекарей и докторов. Если говорить точнее, то двадцати лекарским ученикам, на обучение которых была рассчитана школа (с 1754 г. их число выросло до 50), преподавали: главный доктор, главный лекарь и аптекарь, совмещавшие педагогическую деятельность с выполнением своих прямых функциональных обязанностей. Особо следует обратить внимание на тот факт, что первый единый учебный план для всех госпитальных школ был утвержден только в 1754 г., т. е. спустя почти 50 лет после основания первой школы.
Кадровый вопрос среди педагогов по-прежнему сохранял свою актуальность. Отечественных не было в принципе, а многие иностранцы занимали откровенно антирусскую позицию. Так, А. Тейльс, начальник московского госпиталя и школы при нем, высказывал мысль, что «русские вообще неспособны к серьезному образованию» (1738). И еще один не менее показательный случай, когда при приеме на Балтийский флот двух выпускников московской госпитальной школы (1714) им был устроен дополнительный экзамен. Комиссия состояла из четырех иностранных врачей, относившихся к экзаменуемым крайне предвзято. Молодые врачи закономерно провалили экзамен. Причем один из экзаменаторов, даже не присутствуя на экзамене, выставил им неудовлетворительную оценку [4].
Проблема отсутствия отечественных педагогических кадров напрямую была связана с невозможностью защитить докторскую диссертацию в России. С целью решения этой проблемы в 1738 г. планируется отправить в Париж на три года на обучение шесть молодых полковых лекарей с перспективой дальнейшего привлечения их к педагогической деятельности. В результате так и не смогли найти требуемое количество кандидатов и поехало только трое.
Казалось бы, разрешение Медицинской коллегии в 1764 г. «возводить лекарей в докторскую степень» сможет изменить ситуацию, но этого не случилось. Данного постановления президент Медицинской коллегии барон А.И. Черкасов добился лично у императрицы, вопреки мнению врачей-иностранцев, входивших в состав коллегии. Дело дошло до того, что они попросили Екатерину II отменить указ, на что получили ответ, что члены коллегии могут поступать по собственному усмотрению. Это было воспринято как дозволение не исполнять указа. Поэтому, когда в 1765 г. русский военный врач Г.М. Орреус первым выдержал экзамен на степень доктора медицины, выдача диплома была задержана. Только после двукратных жалоб императрице спустя три года он был восстановлен в своих правах.
Еще одна проблема — недостаток финансирования. Именно по этой причине не был реализован проект Екатерины II о создании в 1786 г. трех университетов (в Пензе, Пскове, Чернигове) с медицинскими факультетами. Также из нереализованных проектов следует отметить предложение М.В. Ломоносова учредить при петербургской Академии наук медицинский факультет.
В 1786 г. госпитальные школы преобразуются в медико-хирургические училища. Суть данного процесса заключалась в том, что, территориально оставаясь при госпиталях, школы административно от них отделялись, вводились должности штатных профессоров и преподавателей, появились кафедры. Сами госпитали являлись клинической базой для училищ. Организация подготовки врачей внешне приобрела большее сходство с европейской. С этого же времени во врачебных училищах наравне с Медицинской коллегией разрешалось защищать диссертации на степень доктора медицины.
В то же время реорганизация школ в училища не только не ликвидировала недостатки преподавания, свойственные госпитальным школам, а наоборот — усугубила их. Изучение наук не было последовательным. Все предметы читались не по плану, а по возможности, зависящей от наличия преподавателя или аудитории. Как следствие, деление на курсы среди студентов не всегда соблюдалось, равно как и установленные сроки обучения. Отсутствовали и четкие требования к проведению выпускных экзаменов. При этом число обучаемых увеличилось более чем вдвое.
В 1789 г. директор Медицинской коллегии И.Ф. Фитингоф разработал проект самостоятельного учебного заведения для подготовки военно-медицинских кадров и проведения научных исследований (чего не было в медико-хирургических училищах). При этом в качестве обоснования он в докладе Екатерине II констатирует, что «Коллегия неспособна выполнять одну из главных своих задач — снабжать медицинскими чинами войско...» [5].
Данный проект со стороны членов Медицинской коллегии вызвал противодействие. Завязалась дискуссия. С одной стороны, предлагалось просто усовершенствовать преподавание в медико-хирургическом училище, с другой — создать принципиально новое учебное заведение по типу академии. В более глобальном смысле решалось, по какому из двух принятых в Европе путей идти отечественному военно-медицинскому образованию. Первый — создание учебных заведений, предназначенных только для изучения военно-медицинских дисциплин. При этом общемедицинские знания приобретались на медицинских факультетах университетов (Пруссия, Франция, Англия). Второй — создание специализированных образовательных учреждений, дававших полное общемедицинское и военно-медицинское образование (Австрия). В коллегии было больше сторонников первого пути. Поэтому не удивительным выглядит тот факт, что в известном указе Павла I сказано об учреждении генеральных медико-хирургических училищ в Москве и Санкт-Петербурге (1798). Слово академия в официальных бумагах появится только через год.
В уставах обеих академий было указано, что в первую очередь они предназначены для подготовки лекарей, провизоров и ветеринаров для армии и флота. Однако программы обучения совсем не учитывали военной специфики и ничем не отличались от таковой на медицинских факультетах университетов. В качестве примера приведем высказывание М.Я. Мудрова: «Нельзя не дивиться, что в академиях, воздвигнутых для воспитания полковых и морских лекарей, преподается и акушерство и судебная медицина, а существенная часть, т. е. медицина военная, там не существует и по имени» (1802) [6]. Век спустя профессор академии Н.А. Вельяминов скажет: «Врачи, окончившие академию, не отличаются от окончивших медицинский факультет собственно ничем, разве, что один 5 лет носил тужурку с погонами, а другой без них» (1905)1. Это говорили те люди, которые не понаслышке знали, что такое война и военная медицина.
Справедливости ради следует отметить, что первый президент Медико-хирургической академии И.П. Франк считал необходимым ввести в число наук, преподаваемых в академии, «военную медицину». Однако по определенным причинам устав Франка реализован не был, а следующий, составленный под руководством Я.В. Вилье в 1808 г., ничего из военной медицины не содержал [7].
Уже в первые годы существования Медико-хирургической академии имелись предпосылки и возможности для внесения в учебные планы ряда дисциплин, необходимых для подготовки военного врача к специфическим условиям предстоявшей ему практической деятельности. Но реальность оказалась иной. По сути, более столетия будет проходить в препираниях между центральным органом управления военной медицины и академией о необходимости внести в процесс преподавания военно-медицинскую специфику. По большей части безрезультатно.
В 1838 г. академия переподчиняется военному министерству, однако на программу обучения это никак не влияет. Цель была иная. Как сказал один из генералов, членов комиссии, рассматривавшей проект реорганизации академии: «Армии не нужны всесторонне образованные врачи: ей нужны лишь хорошо дисциплинированные врачи»2.
Консервативный взгляд на привнесение военно-медицинской специфики в учебные программы профессоров клинической направленности весьма показательно характеризуют представления об этом Н.И. Пирогова. В частности, он полагал, что академия — это бельмо на глазу отечественного медицинского образования, и считал нонсенсом существование специального медицинского учебного заведения. В своих размышлениях по поводу реформирования академии он пришел к выводу о необходимости включения ее на правах факультета в состав Санкт-Петербургского университета. При таком факультете он планировал создать два отделения. Первое должно было послужить «рассадником врачей экспертов и наставников по различным отраслям врачебного знания», второе, предназначенное для подготовки военных врачей, должно комплектоваться из «не имеющих надлежащего приготовительного образования, или же не желающих посвятить себя глубокому изучению науки». Обучение на втором отделении планировалось осуществлять по сокращенной программе (в течение 2,5 лет), уделяя основное внимание практическим навыкам и выпуская со степенью кандидата медицины — это даже не лекарь. В целом же, Н.И. Пирогов считал, что «влияние военной медицины на академию вредно», «специальное образование военных врачей бесполезно». Следует обратить внимание на то, что это говорила личность, которая, как бы сейчас сказали, формировала общественное мнение и имела влияние и авторитет. В дальнейшем идеи о присоединении академии к университету будут появляться с завидной периодичностью (в начале XX в., в 2007–2012)3.
В 1861 г. начальник академии П.А. Дубовицкий ставит кафедрам академии задачу представить свои предложения по приспособлению преподавания ее дисциплины к военным нуждам. До 1864 г. вопрос обсуждался на множестве заседаний, но конкретного результата так и не было. Основной лейтмотив — на эту очень важную военную учебную дисциплину учебных часов без добавления еще одного года обучения выделить невозможно. Врач, прежде всего, должен лечить людей, а военную специфику узнает, придя в войска. Через 50 лет (1906–1910) с этой же целью опять будут заседать комиссии и придут к тому же выводу.
В 1881 г. в ходе очередной реформы академии принимается решение о допуске к обучению лиц, «прошедших первые два курса университетов по медицинскому или естественному отделению и давших обязательство поступить на военную службу». В последующем данное нововведение себя не оправдало, так как базовый уровень знаний студентов медицинских факультетов университетов был явно ниже академического, и их приходилось доучивать. Примеры таких идей можно встретить и в недалеком прошлом.
В попытках хоть как-то адаптировать студентов к военной службе в 1902 г. в Ярославле проводится лагерный сбор (время выделили за счет сокращения на месяц летних каникул). Результат — массовые нарушения дисциплины. Всех провинившихся по законам того времени необходимо было отдать военному суду с тяжелейшими последствиями. Больших усилий начальнику академии стоило перевести это дело в плоскость административного правонарушения.
В марте 1913 г. принимается новое Положение о Военно-медицинской академии. Ключевую роль в его составлении сыграл главный военно-санитарный инспектор А.Я. Евдокимов, считавший, что академия постепенно становилась «гражданской и распущенной». Именно поэтому он требовал подчинения ее себе, милитаризации устава и назначения начальником врача с опытом армейской и боевой службы, а не из числа профессоров академии, как это было ранее. Такие идеи нашли горячую поддержку со стороны военного министра В.А. Сухомлинова и встретили резкое неприятие среди членов конференции академии.
Но процесс военизации обучения шел крайне медленно. В 1911–1914 гг. суммарная продолжительность лекционных курсов и практических занятий по введенным военным и военно-медицинским предметам не превышала 2% от общего их количества по учебному плану. Если же говорить непосредственно о преподавании военно-санитарной тактики и администрации, что априори необходимо знать военному врачу, то на их долю приходилось всего лишь 0,3% учебного времени.
В первые десятилетия советской власти, как ни странно, ситуация изменилась отнюдь не в лучшую сторону. Самое страшное в педагогике — это непродуманные эксперименты. Их последствия отдаленные и зачастую непоправимые. Узнать о результатах можно только тогда, кода молодой специалист попадет в народное хозяйство или в данном случае в армию.
Итак, первые шаги советской власти в этом направлении заключались в следующем.
Отмена вступительных экзаменов. Согласно декрету Совета народных комиссаров от 2 августа 1918 г. студентом академии мог стать любой гражданин РСФСР, достигший 16-летнего возраста. Это привело к существенному преобладанию среди студентов лиц, большинство из которых не соответствовало своему предназначению по образовательному цензу, полу, годности к воинской службе и по состоянию здоровья. Ввиду отсутствия ограничения численности принимаемых в академию она была чрезмерно переполнена студентами. При штатной емкости 875 человек в 1920 г. обучалось 2060 человек. До трети студентов составляли женщины.
Отмена выпускных государственных экзаменов в 1918 г. Потом эта история повторится в 1925 и 1930 г.
Параллельно осуществляется сокращение сроков обучения до 4 лет 6 месяцев, поскольку народному хозяйству требовалось быстро и много специалистов. Также вводится непрерывная производственная практика, подразумевающая следующее: на 1-м курсе курсанты должны были освоить практические навыки бойца пехоты и санитара, на 2-м — санитарного инструктора, на 3-м — фельдшера, на 4-м — врача с учетом специализации по одной из трех возможных специальностей (профилактического, хирургического или терапевтического профилей).
Тогда же вместо управления в академии был сформирован штаб, где отделы заменялись воинскими секторами. Вместо курсов организованы роты — строевые подразделения, во главе которых находились строевые командиры. С целью «сколачивания» таких рот вводились утренние строевые занятия со слушателями за счет учебного времени, выделявшегося для изучения военных предметов. Впервые для будущих врачей было введено учебное несение караульной службы [8].
В 1918–1920 гг. уравнивается преподавательский состав (вводятся только должности профессора и преподавателя), отменяются ученые степени, и как результат — отсутствие у педагогов мотивации к карьерному росту. Сюда же следует отнести и ликвидацию института приват-доцентов, что привело к ограничению клинической базы, использовавшейся для преподавания лечебных дисциплин, так как последние занимались со студентами не только в клиниках академии, но и во многих других лечебных учреждениях Петрограда. Число клинических коек (930), принадлежавших академии, считалось наименьшим по сравнению с другими медицинскими факультетами города. Несмотря на это в 1920-е годы проводилось дальнейшее сокращение академической клинической базы.
Негативное влияние на прием в академию оказывала политическая составляющая. В январе 1922 г. в Военно-санитарном управлении Красной армии разрабатывается Положение о приемно-поверочной политической комиссии Военно-медицинской академии. Предназначение этой комиссии заключалось в укомплектовании академии слушателями, безупречными в политическом и социальном отношении. На деле это была «тройка» коммунистов во главе с военным комиссаром. Из всех абитуриентов первоочередным правом на поступление обладали коммунисты, а после их зачисления — выходцы из пролетарских семей и беднейшего крестьянства, причем вне зависимости от прочих условий. Все остальные подвергались проверке с точки зрения достоверности представлявшихся ими сведений, начиная от общеобразовательного уровня и заканчивая степенью годности к военной службе. Результат работы этой комиссии — за февраль и сентябрь 1922 г. отчислено 697 студентов. В 1924 г. — 300 студентов. Только 48% отчислялось по неуспеваемости, остальные по болезни и политическим мотивам [8].
Экзаменационная реформа (1924–1925) была инициирована слушателями академии. В 1925 г. на заседании совета академии под председательством В.И. Воячека принято решение об отмене 15 курсовых и государственных экзаменов. Вместо них назначались зачеты, которые рекомендовалось проводить преподавателям после каждого практического занятия, и испытания, осуществлявшиеся с индивидуальной ответственностью в присутствии всей учебной группы применительно к теоретическим учебным предметам. При этом индивидуальный опрос слушателя допускался лишь в случае проверки его практических навыков, когда требовалось оценить особенности какого-либо гистологического препарата, метода обследования больного и т. д. Кроме того, была девальвирована роль дифференцированной оценки знаний обучаемых, вместо которой успешная сдача зачета или испытания стала обозначаться словом «сдано» или «не сдано». Такая система существовала в академии в течение 1925–1929 гг.
Следует пояснить, что причина реформы не волюнтаризм или мягкотелость В.И. Воячека, а общегосударственный тренд для всех вузов. Был взят курс на пролетаризацию советской высшей школы. Преимущественным правом на обучение в высших учебных заведениях стали обладать выходцы из пролетарских семей и беднейшего крестьянства, общеобразовательная подготовка которых зачастую являлась препятствием для обучения в высшей школе. Проблема была решена нестандартным способом. Неуспевающих не отчисляли, а, наоборот, поменяли систему, приспособив ее к понижению общеобразовательного уровня.
В рамках реформы высшей школы (1923–1925) в академии осуществлялась другая учебная реформа, которая заключалась в приспособлении учебного процесса в высших учебных заведениях к низкой общеобразовательной подготовке значительной части студентов. В связи с этим планировался переход от лекционной системы преподавания к так называемой лабораторной, который осуществлялся путем замены лекционных курсов практическими занятиями. Так, в академии в этот период количество лекций сократилось с 60 до 44%, а число практических занятий увеличилось с 40 до 56%.
Переход от лекционно-экзаменационной системы к активному групповому методу обучения привел к уменьшению роли в нем высококвалифицированного преподавательского состава, в частности профессоров и заведующих кафедрами. В результате их учебная нагрузка в процессе подготовки военных врачей существенно уменьшилась в 1923–1935 гг. по сравнению с имевшейся как в дооктябрьский период, так и в 1936–1940 гг., когда лекционно-экзаменационная система была восстановлена. Это свидетельствовало о недостаточном использовании возможностей профессорского состава в обучении военно-врачебных кадров в указанный период [9].
В 1920-х годах количество часов, отводимых на военный и военно-санитарный цикл, было столь мизерным, что на одном из заседаний конференции академии «дедушка санитарной тактики» П.И. Тимофеевский заявил: «Мы занимаемся не преподаванием, так преподавать военные предметы нельзя; мы занимаемся пропагандой идей санитарной тактики». К 1929 г. удельный вес этих дисциплин в общем учебном плане составлял всего 6% [3].
В 1930 г. начался пересмотр учебного плана с целью «отсеять» все, что не служит молодому врачу для его дальнейшей профессиональной деятельности. Результат — число самостоятельных предметов сократилось до 52. Удельный вес лекций уменьшился до 15%. Среди крайностей — объединение в 1931 г. близких по характеру предметов в один. В 1935 г. начался обратный процесс, но сколько за это время было потрачено человеко-часов на переписку и переработку учебных программ, представить трудно. По сути, учились по временным планам. Как итог, была нарушена этапность клинического образования, предусматривавшая три его уровня — пропедевтический, факультетский и госпитальный. Значительно снизилась роль в учебном процессе клинических дисциплин, суммарный показатель которых в 30-е годы составлял 35–39% от общего количества учебных часов, тогда как в дооктябрьский период деятельности академии он был не менее 50%. Данная ситуация требовала исправления, которое затянулось до 1939 г. [10].
Во второй половине 30-х годов возможности Военно-медицинской академии не обеспечивали ни профильной подготовки военных врачей для военно-морского флота, ни возросших потребностей Рабоче-крестьянской Красной армии в военно-врачебных кадрах. Поэтому вслед за реформированием учебной деятельности академии, в составе 1-го Ленинградского медицинского института был создан военно-медицинский факультет для подготовки военно-морских врачей (1939), на базе которого в дальнейшем была образована Военно-морская медицинская академия (1940). Кроме того, в то же время сформирована Куйбышевская Военно-медицинская академия (1939). Центром отечественной системы военно-медицинского образования оставалась Ленинградская Военно-медицинская академия. Следует констатировать тот факт, что все вышеизложенные реформы не принесли ожидаемого результата. Боле того, их последствием стал дефицит военно-врачебных кадров на начальном периоде Великой Отечественной войны. Помимо военно-медицинских академий в 1939 г. в стране образуется три военно-медицинских факультета, однако качество подготовки на них по вопросам военной медицины оставляло желать лучшего.
К началу Великой Отечественной войны, несмотря на то что был осуществлен существенный прорыв в подготовке военно-медицинских специалистов, оставался нерешенным вопрос о подготовке руководящего медицинского состава. С мертвой точки вопрос сдвинулся только весной 1943 г., когда был создан командно-медицинский факультет. До этого момента из ситуации выходили путем создания курсов дивизионных врачей. В совсем недавнем прошлом история совершила свой очередной виток, и вновь были предприняты попытки ликвидировать факультет подготовки руководящего состава медицинской службы. Факультет спасти удалось. Но сроки обучения на нем были снижены с трех до двух лет.
Расцвет военно-медицинского образования приходится на 50–80-е годы прошлого века, когда были еще живы те, кто прошел войну и понимал значимость данной подготовки, а главное знал, как ее совершенствовать и в каком направлении двигаться.
В 90-е – начале 2000-х годов отмечается сильное негативное влияние экономических проблем. Начиная с 2007 по 2017 г. берется курс на ликвидацию военно-медицинского образования как такового. В последние годы активно предпринимаются попытки восстановить растраченное в системе военно-медицинского образования и привнести в него то новое, что диктуют современные реалии.
Таким образом, отечественная система подготовки военно-медицинских кадров прошла длительный и непростой путь, на котором были как успехи, так и откровенные провалы. Цикличность истории неоспорима, и ошибки, совершенные в прошлом, с завидной регулярностью повторяются в настоящем, только маскируются они под новыми терминами и совершаются на новом технологическом уровне, что отнюдь не изменяет их глубинного смысла.
Исторический опыт подсказывает, что, как ни печально это звучит, для осознания необходимости реформ, в том числе и в системе подготовки военных врачей, нужна крупная кровопролитная война, когда приобретается новый опыт. На волне таких войн и появляются люди с реальным боевым опытом, которые далеки от конъюнктуры и видят, куда идти. За ними будущее.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. А.А. Жуков — разработка концепции статьи, редактирование статьи; О.А. Крючков — разработка концепции статьи, сбор и анализ источников, написание текста статьи. Авторы одобрили версию для публикации, а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы были использованы фрагменты собственного текста, опубликованного ранее (Шелепов А.М., Крючков О.А. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова на подготовку врачей // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2011. № 3 (35). С. 239–243 EDN: OILCHH. Распространяется на условиях лицензии CC-BY 4.0).
Доступ к данным. Все данные, полученные в настоящем исследовании, доступны в статье.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFO
Authors’ contribution: A.A. Zhukov: conceptualization, writing— review & editing; O.A. Kryuchkov: paper conceptualization, references collection, formal analysis, writing—original draft. All the authors approved the version of the draft to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that issues related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: Fragments of the author’s proprietary text were used in the study and article (Shelepov AM, Kryuchkov OA. Pedagogical views of N.I. Pirogov on the training of doctors. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2011;(3(35)):239–243. EDN: OILCHH. Published under the license CC-BY 4.0).
Data availability statement: All data generated during this study are available in this article.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
1 Вельяминов Н. Нужна ли реорганизация в Военно-медицинской академии // Русский врач. 1905. Т. 4, № 37.
2 Ятрос. Главное в.-санитарное Управление и В.-Медицинская Академия // Русский врач. 1910. Т. 9, № 2.
3 Пирогов Н.И. О желательных преобразованиях Медико-хирургической академии (неизданная рукопись) // Русский врач. 1902. № 1.
Sobre autores
Andrei Zhukov
Kirov Military Medical Academy
Email: androlya@mail.ru
ORCID ID: 0009-0000-4618-6996
Código SPIN: 4098-3894
MD, Dr. Sci. (Medicine), Assistant Professor
Rússia, 6Zh Akademika Lebedeva st., Saint Petersburg, 194044Oleg Kryuchkov
Kirov Military Medical Academy
Autor responsável pela correspondência
Email: ulig@yandex.ru
ORCID ID: 0009-0001-8325-3200
Código SPIN: 1863-8501
MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant Professor
Rússia, 6Zh Akademika Lebedeva st., Saint PetersburgBibliografia
- Pavlovsky EN. Military Medical Academy of the Red Army named after S.M. Kirov for 140 years (1798–1938): A brief historical sketch. Saint Petersburg: VMedA; 1940. 102 p. (In Russ.)
- Oppel VA. The February Revolution and the Military Medical Academy. Saint Petersburg: [u.b.] 2000. 131 p. (In Russ.)
- Krichevsky YN. Basic issues of teaching methods of organization and tactics of medical service in the S.M. Kirov Military Medical Academy of Lenin Order. Proceedings of the Military Medical Academy named after S.M. Kirov. 1956;64:57–75. (In Russ.)
- Chistovich YA. The History of the First Medical Schools in Russia. Moscow: Knigovek; 2013. Vol. 2. P. 78. (In Russ.)
- History of the Imperial Military Medical Academy (former Medical and Surgical Academy) for 100 years 1798–1898. Edited by Ivanovsky. Saint Petersburg: Tipografiya Ministerstva vnutrennikh del, 1898. P. 21. (In Russ.)
- Letters by professors of Moscow University I. Dvigubsky, Mudrov, Timkovsky and others to the trustee of the Moscow educational district M.N. Muravyov. [Moscow; 1861]. 56 p. (In Russ.)
- Shelepov AM, Kryuchkov OA. Pedagogical views of N.I. Pirogov on the training of doctors. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2011;(3(35)):239–243. EDN: OILCHH
- Shalaev NF. Military Medical Academy during the Civil War and Intervention. Moscow, 1988, 19 p. (In Russ.)
- Kozovenko MN. Scientific-pedagogical and personnel problems of the reform of military-medical education in the first half of XX century (on the materials of the Military Medical Academy) [dissertation abstract]. Moscow; 2002. P. 22. EDN: ZMPRWN (In Russ.)
- Goncharov PP. Sketches on the history of VMA in the post-October period. Leningrad: Kirov Military Medical Academy, 1960. 296 p. (In Russ.)
Arquivos suplementares